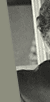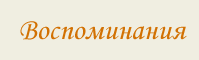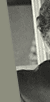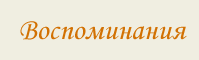| |
РОЗА ВЕТРОВ
Когда Майя Львовна сказала, что сделает попытку собрать в книгу воспоминания всех, кто захочет рассказать об ее сыне, я ответила: прекрасная идея! Конечно же, у каждого из нас найдется что-то свое, личное связавшее нас с Гришей, и из общих воспоминаний быть может удастся сложить портрет этого ни на кого не похожего человека с такой торопливой и короткой судьбой. Судьбой, которая успела вместить в себя огромность иной долгой жизни. Порой мне кажется, что он умер глубоким стариком, успевшим все в мире и полюбить и разлюбить, очароваться и отчаяться, пасть духом и подняться к вершинам мужества, терпения и воли... Пошел третий год, как его нет... Но редок день, когда б я его не вспомнила - по поводу и без повода. Глубоко и неотделимо вошел он в жизнь нашей семьи.
И вот сборник готов к печати. Его не отдают в набор, потому что ждут мейя: я не закончила своих записок. Это дико: ведь я часами могу рассказывать о Грише, я знала его в лучшие и худшие минуты жизни, кажется неплохо понимала, любила и люблю, и тоскую, тоскую, тоскую... И все это, сохраненное во мне в «живых картинах» - его голос, смех, странная для южанина бархатная гладкость выбритых щек, запах всегда хорошего одеколона, подергивание голбвы, «сдувание чертей» с плеча,
невнятное бурчание небрежно брошенных мыслей, среди которых я никогда не слышала ни одной банальности - все это, казалось, легко и стройно ляжет на бумагу, станет фрагментом мемуаров. И всякий раз в этом месте что-то происходило: я удивлялась странно напавшей на меня немоте, цепенела перед чистым листом бумаги, покрывала его необязательными словами, которые тотчас нервическими комками летели в корзину, не могла понять, с чего начать, о чем рассказывать, что важно, а что чепуха, все казалось слишком личным, всему не хватало масштаба. Я делала безуспешные попытки описать личность Гриши во всех ракурсах - а было их великое множество. Он был разным не только на протяжении лет, но и в амплитуде дня, часа, минуты. И вместе с тем монументально устойчив в главном: однажды обретя цель, он шел к ней напролом всю жизнь, до последнего вздоха. Все иное, неглавное, оставалось на периферии кадра, в размытых очертаниях - его глаз этого просто не улавливал. Наверно, поэтому он пропустил многое, что составляет смысл жизни большинства людей. Нормальных людей. Обычных. А он обычным не был. Но вот эту его непохожесть на других мне и не удавалось сфокусировать на бумаге. Наконец ко мне пришла ясность: есть люди, о которых невозможно писать мемуары. Мешает их собственный голос - такой знакомый, незабытый, ироничный... Вот в этом месте он обязательно начал бы спорить... И здесь, и здесь... А этот случай рассказал бы вообще по-другому, с интонацией, свойственной лишь ему одному... Так стоит ли начинать?..
Однако скоро в Москву из Тель-Авива прилетает мама Гриши. За этот год в третий раз она приземлится в Шереметьево, приедет в квартиру, где так любил бывать ее сын, будет звонить по телефонам, где еще отвечают голоса тех, кто работал, дружил, путешествовал, учился или бездельничал с ее сыном - все глаголы в прошедшем времени. Но два остаются в настоящем: кто помнит и любит. Или точнее так: кто не может забыть. Они, эти люди, в течение многих месяцев писали о нем воспоминания, наговаривали их на диктофон, отправляли их Майе Львовне по интернету, Е-таПу и факсу, чтобы потом из всего этого хаоса она смогла бы сложить книгу воспоминаний о своем сыне, покинувшем этот мир стремительно и не в срок, так и не успевшем поверить в
собственную смерть... Лишь в последние секунды жизни его пронзила догадка: это конец. Сил и дыхания хватило на три слова: «Мамочка, прости меня...». Она тоже не успела осознать и приготовиться. Просто осталась на руках с выросшим мальчиком, которого сорок два года назад впервые прижала к груди... И потому для нее книга - это попытка продлить его жизнь, отсрочка последнего прощания и беспредельного одиночества. Я понимаю, как важен для нее каждый неравнодушный взгляд, каждое слово, любой осколок памяти и чувства. И потому я берусь за перо, хотя знаю: если бы Грише выпала доля жить, он написал бы эти мемуары сам. Я представляю себе, как взяла бы на ночь только что вышедшую из печати книгу с его насмешливой дарственной надписью и, предвкушая удовольствие, устроилась бы с уютом в постели, чтобы читать допоздна... Я прошла бы с ним вместе страницу за страницей, в которой узнавала бы нашу общую жизнь, но видела бы теперь все полнее, неожиданней и смешнее, чем это застряло в моей памяти... Какая это могла бы быть замечательная книга! Этой книги не будет никогда... И я рискую хоть как-то заполнить эту брешь... Восемнадцать лет, которые мы с Гришей прожили так близко, не выстроились для меня в стройную систему с прологом, кульминацией и трагическим финалом -все существует в обрывках, как разрезанная на куски кинопленка. Я не знаю, что взять в окончательный монтаж, что оставить «в срезках», а что попросту смыть - бывало и такое. Я не смогу - и не стану делать попытки - рассказать о том, каким был Гриша. Я могу лишь попытаться ответить себе на вопрос, кем он был для нашей семьи.
В шестнадцать лет Гриша написал стихотворение, которое читал по нашей просьбе десятки раз. Называлось оно - «Статус кво». Нас сразила грустная глубина размышлений этого почти мальчика. Там была благодарность судьбе, за то, что она уже дала, и смирение, и готовность не просить многого, и ощущение хрупкости мира, где все подвержено утратам... После Гришиного ухода оказалось, что среди вороха бумажных и видео-записей, стихов, набросков сценариев, пьес и капустников, не оказалось именно этих стихов. Стихов, которые так многое объясняют в
Гришиной душе и судьбе. В них трепетала недетская мольба о том, чтобы ничто не изменилось в мире в сравнении с сегодняшним днем, когда все еще живы...
...Пусть дождь идет и высыхают лужи. Но я хочу, чтобы не стало хуже -И потому я пью за «статус кво».
Меня тогда взволновало его раннее осознание непрочности всего земного. Такое впечатление, будто он всегда жил с этим чувством. Когда грянула Перестройка и стало возможно колесить по миру, Гриша жадно поглощал пространства, скрупулезно подсчитывая количество стран, городов, круизов, перелетов... В свое предпоследнее лето, в июльскую жару, в недолгий отпуск после тяжелого сезона в театре и на телевидении, рванул в Лондон, смотрел новые мюзиклы, продавливал своим немалым весом раскаленный асфальт английской столицы, вернулся чуть живой, вместо того, чтобы тихо отоспаться в Подмосковье на берегу водоема... Слушая его рассказы, прерываемые одышкой, я возмущалась: увидел бы эти мюзиклы в другой раз, никуда они не денутся, годами идут на лондонских подмостках! Недавно я была в Лондоне: спектакли действительно по-прежнему в репертуаре...
А впервые он появился в нашем доме в качестве «ухажера» Любы - сестры моего мужа, своей будущей жены - еще студентом ГИТИСа. Упитанный молодой человек, которому мама постоянно слала из Баку банки с черной икрой... Мальчик из номенклатурной семьи, приехавший завоевать Москву... Нельзя сказать, чтоб он блеснул в тот вечер интеллектом: с аппетитом поужинав, он улегся на живот на ковре -играть в настольный хоккей с нашим сыном. Антону было в тот год четырнадцать, Грише - двадцать пять. Играли они часа три одинаково увлеченно и самозабвенно. Наша младшая дочь шестилетняя Даша ходила вокруг, изнывая от скуки - Гриша не проявил к ней ни малейшего интереса. Вечером пили чай с домашним тортом. Гриша съел три больших куска, а потом как бы невзначай поинтересовался, не осталось
ли от давешнего ужина бифштекса: он был не против к нему вернуться. Моя мама, получившая воспитание до революции, не выказала удивления. Люба нервничала и делала Грише знаки глазами. Он смотрел светло и как бы не понимая... Вежливо поблагодарив хозяйку дома и нас всех, ушел. Когда дверь закрылась, мы переглянулись: ну как?! Впечатление было единодушным и ни на чем не основанным: потрясающий парень, дай-то Бог, чтобы все сложилось!... Забегая вперед скажу, что между нашими детьми и Гришей сложились невероятные со всех точек зрения отношения. Он воспринимал их одновременно как своих собственных детей, как племянников, друзей, партнеров по досугу и путешествиям, а с годами - как главных советчиков по творческим и жизненным вопросам. Разница в возрасте быстро и незаметно стерлась - мы все стали одной неразлучной компанией. Что же касается моей мамы, то позже, когда Гриша стал тем, чем он стал, она не уставала вспоминать, как разглядела в первый вечер в этом хмуром, исподлобья глядящем провинциале выдающегося человека, которому предстояло занять особое место в судьбе каждого из нас... Надо признать, что эта любовь с первого взгляда была взаимной: Гриша утверждал, что решение жениться на Любе созрело у него именно в тот вечер - при знакомстве со всей семьей и особенно с мамой. Годы спустя, он примчится в Боткинскую больницу, где повисла на ниточке мамина жизнь, и скажет: у меня с ней одна группа крови, берите столько, сколько сможете из меня накачать! А еще через несколько лет, на юбилее мамы, который отмечался в зале старого «Националя», выходящем окнами на Красную площадь, он скажет ей: «Вы облагораживаете собой все, даже этот пейзаж!, - и окинет взглядом краснозвездные кремлевские башни у мамы за спиной... А еще впереди будет Париж, где - оба впервые - они окажутся по счастливому совпадению судьбы одновременно. Мама грезила о Париже всю жизнь. Даже в казахстанской ковыльной степи
позади... А Гриша будет думать: как здорово, когда все приходит вовремя: он на пике восхождения, в разгаре судьбы!
Мама переживет Гришу на год... Именно она позвонит нам на мобильный - мы все были в тот день за границей - и скажет неузнаваемым страшным голосом: Гриша умер. Наша последняя общая фотография сделана в день маминого девяностолетия, 30 марта 1999 года. Даша ждала ребенка, до рождения ее сына оставалось два дня. Было решено отложить на месяц юбилейные торжества. А в тот день мы собрались тесным кругом, семьей. Весь вечер Гриша странно поводил шеей, крутил рукой, жаловался, что болят кости. На следующий день Майя Львовна улетела в Израиль, Гриша - в Петербург: надеялся на мануальщиков, которые раз ему уже помогли. Узнав о рождении Дашиного сына, записался на автоответчик: «Ура! Ура! У-а! У-а!», а еще через день позвонил в два часа ночи: «Со мной происходит что-то странное, я не могу встать на ноги...» Я не поняла: в каком смысле? «В прямом, - сказал Гриша спокойно. - Ноги отказали. Позвони, пожалуйста Любе, я с ней только что говорил, она в истерике. Утешь ее, успокой и подумайте: как меня переправить завтра в Москву...» Лететь самолетом Гриша не хотел: принесут в общий салон на носилках, лицо известное, будет много любопытных... «Может быть, специальной санитарной машиной», - предложила я. «Пожалуй... Утром решим...» И потом, после паузы: «Скажи, мы есть друг у друга?» Я испугалась, сказала торопливо: «Что за странный вопрос, конечно же, есть, навсегда!» На следующий день мой муж встречал «Скорую» из Питера у дверей института Бурденко. Так начался последний акт этой судьбы, построенной по всем законам драмы: многообещающая завязка, яркая и полная событий основная часть, высокий трагический финал, на фоне которого стала распадаться на куски картина всей жизни: прошлое, будущее, настоящее... Семья, любовь, дружбы, театр - все оказалось вовлеченным в эту воронку, камнем пошло на бездонное дно... Впрочем, всё последующее, что до сих пор не умещается у меня в сознании, как в таких случаях говорят: «выходит за рамки данной работы»... Не будем трогать...
Сейчас, когда мы работаем на сериалом по «Тяжелому песку» Рыбакова, мне пришла в голову странная мысль: в романе главная героиня - Рахиль - не умирает как все смертные, а как бы растворяется в воздухе, становится частью природы, мирозданья... Порой мне кажется: Гриша не умер, он просто сгинул в жарких чужих песках, в белом раскаленном мареве неродного края... Может быть, причина в том, что в Москве нет его могилы - реального знака смерти, последнего прибежища в городе, который он так любил...
Когда решили менять квартиру, Гриша говорил: я провинциал, я должен жить в самом центре Москвы, в пределах бульварного кольца, в крайнем случае - Садового! То была и шутка и нешутка, скорее -самоирония. Он не хотел отказаться от детской мечты: жить в центре столицы. Это было его достижение, его победа, знак состоявшейся судьбы. Помню также какой-то из юбилейных вечеров «Лейкома». На сцену поднялся хор Главных режиссеров всех театров Москвы. Гриша стоял в этой шеренге, и текст песни был написан именно им. После выступления под гром аплодисментов зубры театральной Москвы рассаживались по местам в зале. Гриша склонился ко мне, прошептал на ухо: «Ну вот это и случилось: я вошел в Высшую лигу!» Тогда мне показалось, что это немного наивно и хвастливо. Теперь, вспоминая, я радуюсь: в долгие мучительные недели болезни, между сеансами облучений и химии, он, конечно же, страницу за страницей листал всю свою жизнь. Наверно, он вспомнил и тот вечер, и себя - равного среди лучших - в зале, где была «ту Моску». И может быть, сознание исполненной мечты придало ему спокойствия и мужества перед надвигающейся чернотой...
Однако, путь в Высшую лигу не был стремительным и легким. Случались неудачные опыты, несостоявшиеся спектакли, разочарования, ссоры, разрывы, обиды. Поднималась к горлу тоска, раздражительность,
юмор становился злым, ирония - ядовитой. Однако до отчаяния дело не доходило ни разу - во всяком случае, так это помнится мне сегодня. Был какой-то внутренний упор, ресурс энергии и воли, не позволяющий утратить веру в себя. Может быть, основа была крепкой: детство на солнце и море, любовь родителей, деда, талант и шарм, компенсирующий любые несовершенства. Во всяком случае, сам Гриша любил шутить на тему своей внешности: входит красавец-блондин, похожий на меня, поджар, спортивен, чеканит каждое слово... Он и впрямь мог не комплексовать: явившись на телеэкране, он быстро превзошел в успехе и популярности всех записных красавцев. А в те годы, в ожидании «своего часа», он вел ленноватую жизнь, поздно вставал, в полдень по телефону отвечал односложно, невыспавшимся голосом. Подолгу бродил в халате, смотрел спортивные программы, читал детективы. Писал обычно по ночам часов до пяти утра. Приехал как-то в Дом творчества кинематографистов в Болшево, где летом жила наша семья. Через неделю я вдруг обнаружила, что моя худенькая и бледненькая дочь на глазах превращается в упитанную гладкую деревенскую девку. Оказывается, в перерывах между работой они с Гришей гуляли, болтали и ... ели. Все ночи напролет. Днем шли в Гастроном на Первомайке - заведение крайнего убожества - покупали два батона белого хлеба и батон синеватой колбасы килограмма на полтора... А назавтра шли снова: за ночь каждый съедал по десять-пятнадцать бутербродов! Машину Гриша не водил, да и купить ее не стремился... А потом случилась Перестройка и произошло совпадение времени и его таланта, общего ритма жизни и его собственного темперамента. Неутоленная жажда зрителей по всему новому, живому, еще не утраченная способность удивляться - счастливо соединились с его даром удивлять, создавать, созидать. Сегодня, когда я думаю о происшедшей с Гришей метаморфозе, мне вспоминается рассказ моего отца о годах НЭП'а: вдруг все вокруг стало быстро двигаться: люди, трамваи, автомобили. Все быстрее заговорили, рукопожатия стали энергичней, улыбки ярче. Немытые заколоченные витрины заиграли зеркалами, в Столешникове и на Кузнецком запахло шоколадом и ванилью... То же произошло и с Гришей: у него появился смысл жизни:
идея создания своего театра перестала казаться безумной. Силы, фантазии и мысли накопленные в годы застоя, рвались на свет божий... Он оказался способным ко всему: собрать труппу, научить ее играть, танцевать и петь, находить деньги на постановки, вести бухгалтерию, писать и ставить пьесы. Потом появилось телевидение и пришла известность на всю страну. Он больше не спал днем, энергично говорил по трем телефонам разом, он метался между театром, спонсорами, Останкиным и СТД, ездил по всему свету, по-прежнему ночами работал: писал, курил и заедал сигареты бутербродами... Только теперь компанию ему составляла Шерка - подаренный нами американский коккер-спаниель. Вдвоем они встречали рассвет в большой квартире в доме на Садовом кольце, в центре Старой Москвы...
Когда я пытаюсь ответить себе на вопрос, чего мне не достает более всего после Гришиного ухода, я понимаю: его редкого дара видеть смешное в великом, высокое в повседневном, горькое в приторном... На этом был замешан его первый - и самый мной любимый - спектакль «Чтение новой пьесы». Перед тем, как впервые открылся в Гнездниковском занавес созданного им театра, Гриша вышел на авансцену, чтоб объясниться с публикой. Возможно, ему хотелось как-то извиниться за слово «кабаре» перед нашим еще стеснительным зрителем, а может быть, напротив, он боялся не оправдать дерзких ожиданий измочаленного цензурой народа... В общем, он вышел и сказал: «Да, это кабаре. Но кабаре в стране Достоевского»... То была чистая правда. Два часа я неудержимо смеялась, и влетела за кулисы с сияющей улыбкой. «Ну как?, - настороженно вглядываясь в мое лицо спросил Гриша. - Ничего, а?» Я обняла его за шею и разрыдалась, уткнувшись лицом во фрак... «Ах, даже так..., - сказал он удивленно и взволнованно, - ты не врешь?» Я замотала головой, заливаясь слезами... Я оплакивала балерину Кшесинскую и майора Фишмана, мальчика из пионерлагеря и Робертино Лоретти, великую Барсову и жалкого солдатика, доживающего свой век в подмосковном поселке ветеранов на пенсию героев Вермахта... Я оплакивала их всех, потому что это были
мы сами, родом из того времени и той страны, которая уходила под воду как Атлантида.
Оттуда родом был и сам Гриша. Это о себе чуть позже он написал самую поразительную, самую нетленную свою мини-пьесу «Шар» -историю молодого ученого, служившего в «почтовом ящике» и подписавшего «секретность». Как-то вечером того угораздило взять билеты в кино. Давали «Мужчину и женщину». Анук Эмме в распахнутой дубленке шла по зимнему пляжу в туфельках-гвоздиках, и гоночный автомобиль закладывал невероятные виражи на песке, и носилась вдоль моря собака... От веявших с экрана свободы и легкости у младшего научного сотрудника помутилось сознание: он вдруг почувствовал себя свободным и утром явился в местком - просить, чтоб дали путевку во Францию... Ему коротко все объяснили. Тогда он бросил Москву, уехал в дальневосточный филиал института поближе к Японии, изучил Розу Ветров и стал ждать попутного ветра - того, который должен был перенести его через границу. Подходящий воздушный поток должен был образоваться через восемнадцать лет, но он не терял терпения. Он работал - двигал науку, и шил воздушный шар - тот, что должен был перенести его на свободу. За полгода до заветного дня с института сняли все допуски, отменили секретность и всем разрешили ехать на все четыре стороны... Бывшие сослуживцы легально проследовали через остров в Японию - с визами и валютой, в профессорских чинах, с фотографиями детей и внуков... Но наш герой остался абсолютно спокоен.
« Ему было пятьдесят четыре года. Прекрасный возраст! Его не пригибали к земле доспехи обывателя: семья, квартира, работа - зато он точно знал, что если стартовать в хороший солнечный день, при попутном, конечно, ветре, можно в считанные часы достигнуть острова Хоккайдо и
войти в его воздушное пространство со стороны Вакканай, сбросив балласт над Вулканическим заливом, можно вновь набрать высоту и, свернув резко на зюйд-вест пройти точно
между городами Мияко и Камаиси. Затем, не меняя направления, сделать круг над Токио и вынырнуть из облаков где-нибудь над пляжем Канадзавы. В мае уже цветет саккура и в прозрачной воде Японского моря видно, как ловцы жемчуга достают до самого дна!»
Я вижу эту сцену так, будто была в театре вчера: актер произносит финальный монолог в счастливо-взвинченной интонации, все более «самозаводясь», как бы захлебываясь от счастья. И все время бежит по сцене, бежит на месте, преодолевая вздымающийся волнами шелк ненужного парашюта... Мы отчетливо видим, как бьет ему в лицо океанский ветер, как он, пересиливая природу, рок, безумие мечты, пытается выжить: доказать нам и себе - себе, себе, себе! - что все не зря, не впустую, не собаке под хвост... и слезы заливают его счастливое лицо... А долгожданная Роза Ветров проносится мимо и устремляется к чужим берегам, и кого-то другого будет сводить с ума....
Гриша создал лаконичный и блестящий образ загубленного поколения. Сам же он родился чуть позже и потому успел состояться - к нему Роза Ветров была благосклонна: его таланту суждено было полностью реализовать себя на коротком перегоне между Гласностью и Смертью.
Гриша включил «Шар» в спектакль «Чтение новой пьесы». Я знала
хронометраж спектакля и часто - десятки раз - приезжала в театр точно ко времени «Шара». Зал был набит битком, сидели в проходах на приставных. Я поднималась в ложу осветителей и оттуда смотрела на сцену. Я знала текст наизусть и знала, что все равно не удержусь от слез. Собственно говоря, за этим я туда и приезжала...
Странная судьба выпала этому «Шару» - он оказался единственным фрагментом из всех спектаклей, который не был снят на пленку. Блестящий исполнитель главной роли - артист Саша Резалин - давно работает в театре «Луны». На свете нет Гриши. А на днях я услышала по радио, что театр «Летучая мышь» играет последние спектакли и прекращает свое существование...
Много лет назад, еще до падения советского режима, мы болтали с Гришей о чем-то необязательном и я сказала вскользь:
Если когда-нибудь нам даруют свободу, первым делом я поеду, знаешь куда?
- Куда?
- В Кортина Д'Ампеццо!
Гриша вскинул голову:
- Почему?
Я пожала плечами:
- Понятия не имею! Втемяшилось в голову с детства: Кортина Д'Ампеццо! Что-то волнующее, нереальное, несбыточное...
- Как странно, - сказал Гриша задумчиво, - меня тоже всю жизнь манило это название! Именно оно - ничто другое...
Не веря себе, мы в шутку договорились, что если вдруг... то первым делом... именно туда... обязательно вместе...
Несбыточное стало возможным. Гриша поехал на гастроли в Италию, узнал, что Кортина Д'Ампеццо где-то неподалеку. В свободный день взял машину и поехал туда. Он любил, когда воплощались фантазии. Вернувшись в Москву, сказал разочарованно: «Знаешь, ничего особенного. Просто дыра»...
А я там так и не побывала, а теперь, наверно, уже и не поеду. Без Гриши не хочется...
|
|
|