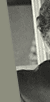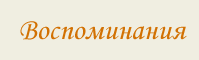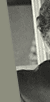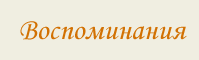| |
Когда Гриша Гурвич пришел учиться на режиссерский факультет ГИТИСа — Государственного института театрального искусства, я уже был аспирантом. Старшекурсники, а тем более аспиранты не часто обращают внимание на тех, кто младше их по возрасту и годам обучения, но все, что делал Гриша, и то, как он существовал в театральной среде, было настолько неординарно и ярко, что привлекало к нему внимание. Он нес в себе знойную яркость Баку, удивительного города, который вобрал в себя множество культур — и азербайджанскую, и армянскую, и еврейскую, и русскую, и немецкую. Это все переплавлялось в какое-то неистовое остроумие совершенно особого толка.
Бакинцы вошли в историю российской культуры, пожалуй, не менее энергично, чем одесситы. Во всяком случае, по восприятию жизни, юмору, темпераменту и жизнестойкости они могли бы сравниться друг с другом. В манерах Гриши, стиле его поведения чувствовался некоторый, чуть изнеженный, восток. Это было видно по тому, как передвигалось его довольно грузная фигура по коридорам ГИТИСа, Дома актера, по другим театральным пространствам, по московским улицам.
Гриша был любимцем Марии Осиповны Кнебель и всей режиссерской публики театрального института. Его любили не только педагоги, но и студенты, что бывает не часто. С его талантом, честолюбием, серьезным отношением к профессии он не сразу выбрал свой путь.
Это было время увлечения Эфросом, «Таганкой» и начало работы Ефремова в Художественном театре. Тем не менее Гриша выбрал путь, который всем тогда казался почти безнадежным. Возрождение «Летучей мыши», балиевской традиции капустника было довольно неожиданно и, мало кто полагал, что из этого может выйти профессиональное дело, и, что оно способно будет принести профессиональный успех. Но Гриша Гурвич верил в себя, в свою судьбу, в свой талант кабаретного режиссера и замечательного ведущего — он и похож был на Балиева, хотя сегодня трудно сказать, кто из них был талантливее и кто остроумнее.
Создание «Летучей мыши» было парадоксальной неожиданностью для многих еще и потому, что проще было пойти работать в оперетту или какой-нибудь музыкальный театр, но Гриша шел свои путем. И надо сказать, ему повезло с артистами или, как тогда говорили, с единомышленниками. На самом деле, это были молодые люди, которые ему верили и которые понимали, что синтетизм, необходимый для театра Гришиной мечты, вещь трудная, но возможная. Разумеется, ему было важно, принципиально важно, начать там, где когда-то начинал Ба-лиев — в помещении учебного театра ГИТИСа в Гнездниковском переулке. По существу, там и родился этот театр. Наверное, его стены хранили Гришу. Там. в этом подвальном зальчике, где в 900-910-е годы блистали корифеи Московского художественного театра и не только они, он отмечал все юбилеи, все свои праздники.
Мне кажется, что переход на большие подмостки Театра киноактера в чем-то оказался для него мучительным. Ему хотелось больших форм, ему хотелось вырваться за пределы маленькой сценки, он хотел сочинять театральные композиции свободно и размашисто, как любят делать режиссеры, и, это ему удавалось, но, видимо, в том подвальчике сама атмосфера питала его жизнью и помогала бороться с недугами, которые, как оказалось, в нем жили и, в конечном счете, победили его.
Искусство Григория Гурвича существовало в особом эстетическом качестве. В какой-то момент он понял природу балиевского театра, и выяснил, что он и Балиев отличаются друг от друга. Балиев пародировал известные феномены художественной жизни, он пародировал взрослую серьезную жизнь Художественного театра. Гриша пытался как бы передразнивать саму жизнь, а не только ее отражение в серьезных художественных коллективах. Это было труднее, это создавало серьезные сложности. Однако, Гриша, владеющий пером так же, как и режиссерскими мизансценами, умел создавать тексты, которые покоряли зрительный зал. Для него было важно чувствовать себя демиургом — создателем спектаклей. Его присутствие на сцене определяло их особое качество, и в тот момент, когда он ушел со сцены, стало ясно, что без него спектакли потеряли не просто сюжетные фабульные связки, они потеряли душу, благодаря чему и существовали как художественное целое.
Григорий Гурвич был не просто режиссером своих спектаклей. Он были их автором, причем не только в мейерхольдовском смысле этого слова, но и в прозаически житейском: он был автором текста, исполнителем сквозных партий ведущего, режиссером и все это вместе создавало его мир. Спектакли, которые оп выносил на сцену, были внешним выражением тех внутренних процессов, которые происходят в нем самом. «Летучая мышь» была его авторским спектаклем в самом прямом и незатейливом смысле этого слова, она была его авторским театром. Гриша сочинил мир, в котором жил, и без которого ему существовать было невмоготу. К счастью, он добился успеха. Его театр любили. Он понял, что может творить свободно, не думая о том, что надо осторожно прикасаться к каким-то запретным из-за цензуры темам. Он обрел ту возможность творческой свободы, которую подарило время, и воспользовался этим в высшей степени умно.
Я не пророк, и не знаю, как сложится судьба «Летучей мыши». Хочется надеяться, что она будет успешной, но, я повторюсь, «Летучая мышь» — это Григорий Гурвич. Без него жизнь этого театра пойдет другой дорогой, может быть, и, будем надеяться, успешной. Смерть Гриши оборвала и жизнь его театра. Это — горький факт, но не признать его было бы глупо. Как любой, уверенный в себе человек, он внутренне был раним и не слишком весел, как и положено настоящему художнику, работающему на тяжелой ниве юмористических и сатирических спектаклей. Григорий Гурвич создал уникальный художественный мир. В нем было радостно не только ему, но и нам, когда мы смотрели его спектакли.
Михаил Швыдкой
|
|
|